
В феврале исполняется 70 лет со дня рождения Юрия Ивановича Асланьяна – члена Союза российских писателей, члена Союза журналистов России.
Юрий Асланьян (1955 – 2024) – автор повестей, романов: «Территория Бога», «Пчелиная королева», «Дети победителей», «Мистическая доминанта мира», сборников стихов «Печорский тракт» и «Ересь». Последние 7 лет Юрий Иванович был главным редактором краевой газеты «Здравствуй!». Но в первую очередь он запомнился как удивительно цельная и сильная личность, как человек, искренне переживающий за судьбу страны и народа на сломе эпох.
Юрий Иванович родился и вырос в Красновишерске, на берегу уральской Вишеры, у горы Полюд. Служил в Сибири, во внутренних войсках МВД СССР. Учился на филологическом факультете Пермского государственного университета. Стихи и прозу начал писать с 15 лет.
Он никогда не гнался за шумным успехом и легкой славой. Он работал кропотливо и честно всем существом своего огромного таланта. Читая его стихи, сначала испытываешь недоумение и даже раздражение, а время спустя – восхищение его свободой, а еще огромным культурологическим багажом и чутким, тонким обращением с ним. Поэтическая гармония Асланьяна не равна благозвучию или полусонному умиротворению. По мнению поэта, качественный текст отличает не только стилистическое единство, но и ассоциативная сопряженность. «Больше ассоциативных связей и меньше идейно-тематических фракций. Тогда лазерный пучок чувства получается густым и целенаправленным», – пишет Юрий Асланьян в предисловии сборника стихов «Печорский тракт».
И вот перед тобой туманность оборачивается ясностью утренней зари, когда природа еще дремлет в сонной дымке, но горизонт уже ярко окрашен, и понимаешь, что грядет новый день – новый рубеж. В стихах Юрия Асланьяна дорога ведет не на край света, а за край.
О жизни и ремесле
Автобиографические заметки. Использованы фрагменты из предисловия к книге Ю. Асланьяна «Печорский тракт», повести «За пеленой бытия».
* * *
Долгое время в нашей семье не было даже маленькой библиотечки. Родительская жизнь в бараках, переезды с Урала в Крым и обратно, постоянная теснота и неустроенность не позволяли собрать ее. Книги стали появляться позже, когда мне было уже лет двенадцать, а чтение стало для меня главным интересом жизни. Это было похоже на волшебство русских сказок: только что ты был здесь – и вот тебя уже нету, ты, допустим, в Англии XIX века.
* * *
Кем, допустим, я мог стать, если жил на улице Маяковского, а соседние улицы были Островского, Толстого и Горького? У меня выбора не было – только писателем.
* * *
Я проходил службу во внутренних войсках в семидесятых годах минувшего века. Я знал наизусть немало стихотворений, когда был призван в армию. Десятичасовое стояние на посту включало в себя чтение наизусть Пушкина, Есенина, Маркова… Позднее я узнал, что звук в ночной зимней зоне расходится так же хорошо, как по тихой утренней воде залива или пруда. Оказалось, что зеки хорошо знакомы с моей эстрадной программой неофициального чтеца внутренних войск. Они, убийцы, грабители, воры, стояли на пятидесятиградусном морозе – и слушали стихи.
* * *
В университете меня захватил вихрь поэзии – в руки шли книги, о которых я вообще ничего не знал: Гумилев, Мандельштам, Окуджава, Рубцов, Вознесенский, Неруда… Конечно, я никогда не забуду творческий кружок филологического факультета, который вела редактор Пермского книжного издательства Надежда Николаевна Гашева, привившая нам поэтический вкус и достойный стиль поведения.
* * *
Был в моей жизни такой идиотский момент, когда я задумался, как дальше писать – так, как требуют редакторы и критики, или так, как хочется мне. Слава богу, хватило ума ответить на него однозначно. И с тех пор меня не публиковали. И я понял, что поэзия поступка, открытия – это всегда риск оказаться в мертвом секторе мировой литературы. Например, риск быть непонятым.
* * *
Пусть человечество напишет еще миллионы книг, но то, что сделал ты, уже никто не повторит. Потому что это твой мир, другая жизнь, иной смысл. А высшая форма жизни – духовное самосовершенствование. Гомером я не стал, но Асланьяном – точно, этого уже никто не отнимет…
* * *
И об одном только молю я маму Вселенную: будь милосердной, не лишай меня надежды хоть когда-нибудь, когда уже и Земли не будет, на той стороне бытия, за пеленой, встретиться с теми, кто ушел от меня в вечность, оставив загадки, над которыми мне суждено биться до конца земного пути. Не лишай меня хотя бы надежды.
Несколько стихотворений из поэтического сборника «Печорский тракт», который был издан 15 лет назад
Автобиография
Я родился в советской стране
И достиг восемнадцати лет,
Чтоб наставники выдали мне
Аттестат и военный билет.
Я носил полумесяц пилотки
Со звездой, постигая, что главное –
Это танкеры крови и водки
Для теории доктора Дарвина.
Я в российском университете
Изучал золотую латынь
И не думал о том, что на свете
Целый шар танкодромных равнин.
Я работал на тайном заводе,
Охраняемом, как мавзолей,
Будто психобольным на разводе
Не хватало публичных соплей.
На конвейерной ленте забоя
Я забил на бригадный подряд –
И не знал никогда, что такое
«Гиацинт», «Ураган» или «Град».
Я не видел системную смерть,
Но я думаю, что – в самом деле –
Нас не надо сегодня жалеть,
Ведь и мы никого не жалели.
Пили первые слезы свои –
И, быть может, за эту науку
Мы достойны последней любви,
Как инъекции в сонную руку.
1999
* * *
Тихо снег летит на мою страну,
у печальных дум я сейчас в плену.
Дни идут, идут, как снега идут,
уже много дней дома сына ждут.
Тихо в комнате, лишь часы стучат –
скоро ль кончится этот снегопад?
Стол давно накрыт белой скатертью,
слышу разговор отца с матерью:
«Где наш милый сын,
как живет теперь?»
Замолчат и ждут –
может, скрипнет дверь.
Тихо снег летит на мою страну,
у печальных дум я сейчас в плену.
1973
Вишерские камни
Встали камни – Полюд и Ветлан –
Как ворота водной дороги…
Капли с весел летят в океан
руслом Вишеры, Камы и Волги.
Говорливый, скажи, много ль слез,
много ль вод протекло у порога?
Эхо камня на этот вопрос
многократно ответит, что много.
Развернув свою лодку веслом,
посмотри на восток обагренный
Нас угрюмый старик Помяненный
помянет, когда вниз проплывем.
1980
* * *
Печалью музыку сродни,
не вышибить мне клином клинья.
Мы в этой комнате одни,
вернее, в комнате один я.
Что не случиться этой встрече,
я знаю точно наперед,
хоть голос чисто человечий
уже давно меня зовет.
А только все это от Бога!
Мне не держать смычка, хоть плачь.
Мне очень часто одиноко –
и почему я не скрипач?
1985
Больше всего Юрий Асланьян известен как автор романов
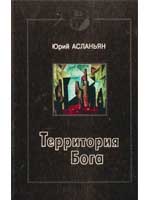
«ТЕРРИТОРИЯ БОГА»
Первый роман Юрия Асланьяна «Территория Бога» – это расследование убийства директора заповедника «Вишерский» и исследование российской жизни 90-х годов. Сплав дерюжной реальности, северной поэзии и дерзких образов героев, сохранивших свое человеческое достоинство даже тогда, когда все распадается и рушится. Действие происходит на малой родине автора, на таежных тропах.
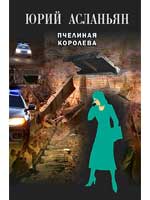
«ПЧЕЛИНАЯ КОРОЛЕВА»
В романе «Пчелиная королева» говорится о событиях, начавшихся с крушения бассейна в провинциальном городке. Героиня романа, обвиненная в произошедшей трагедии, проводит собственное расследование и устанавливает его реальные причины.
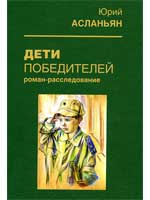
«ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Следующий роман-расследование – «Дети победителей». Герои произведения – журналисты, депутаты, представители чеченской диаспоры и армянского народа, правоохранительных органов и криминального мира города. Всех их объединяет и разъединяет отношение к начавшейся Чеченской войне и войне вообще.
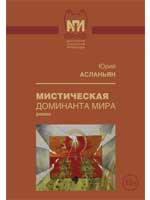
«МИСТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА МИРА»
Роман «Мистическая доминанта мира» писался десять лет. Это история жизни ученого и супермена, создавшего дерзкие математические гипотезы времени и вечности. Загадки бытия требуют своего решения. А браться за это могут люди, которые обрели веру в себя, в Бога, в физику, метафизику и даже мистику бытия. Герой романа – культурист, каратист, а еще он физик-теоретик, математик, создатель необычных гипотез о времени и вечности. Он верит в добро и милосердие. Его встреча с земными антиподами неизбежна. Чем закончится нравственное противостояние?
Но уже сейчас можно сказать, что смысл романа находится выше его фабулы. Ведь это книга о человеке в космическом ракурсе.
Литературное творчество Юрия Асланьяна отмечено общественным орденом Федора Достоевского



 Андрей Игошев
Андрей Игошев

